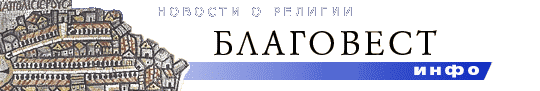
|
| Контакты | Подписка |
Выставка «От Отечественной войны до декабристов». Москва
Выставка, посвященная князю Андрею Боголюбскому. Москва
Лекция-экскурсия «Святитель Иоанн Шанхайский: апостол русского зарубежья». Москва
Лекция «От Отечественной войны до декабристов. Религиозное искусство 1810-х – 1820-х годов». Москва
Тематическая экскурсия «Страницы церковной жизни русского зарубежья». Москва
Выставка «Иконы: старообрядцы и их мир». Клинтон, США
Презентация книги игумена Арсения (Соколова) "Двенадцать. Книги малых пророков". Москва
|
РепортажиРусская икона XVIII века: от «живоподобия» к классицизму
Скриншот онлайн-презентации Москва, 7 июля, Благовест-инфо. «Икона "галантного века". Произведения XVIII века из музейных и частных собраний» – такая выставка проходит в Центральном музее древнерусского искусства им. Андрея Рублева (ЦМИАР). Иконопись этого времени – тема малоразработанная, подобные выставки – большая редкость, и ЦМИАР в этой теме – «первопроходец», считает сокуратор выставки, главный научный сотрудник Научно-исследовательского отдела музея Наталья Комашко. О том, как менялась русская икона на протяжении всего «галантного века», как впитывала она и адаптировала новые европейские стили, как шла «в ногу со временем», сохраняя при этом традиционные черты, куратор подробно рассказала 26 июня на онлайн-семинаре, организованном Государственным институтом искусствознания. Основное внимание выставка уделяет «большим основным европейским стилям, которые отразились в русском искусстве и иконе, отразились очень разнообразно, порой парадоксально», отметила искусствовед. В начале XVIII века еще работали иконописцы Оружейной палаты, их ученики, приверженные «парадигме живоподобия» («живоподобию» свойственны стремление к анатомической точности, выявление объемной пластики формы, натуралистические детали – прим. ред.). Избавиться от «живоподобия» было сложно, но в Россию приезжало все больше иностранных мастеров, привозивших с собой новые европейские стили. И хотя кажется, что в начале XVIII в. икона была этим «как будто не затронута», но уже начался «разгон» в направлении европейских стилей, считает Комашко.
Скриншот онлайн-презентации Этот процесс иллюстрирует первый раздел выставки – «От живоподобия к барокко», которые представляет русских мастеров 1720-30 гг. В это время «внутрь системы Оружейной палаты приходит новое»: например, копирование гравюр, принятое в этих мастерских, теперь становится «более осмысленным», иногда обнаруживается «потрясающая стилистическая эволюция». Так, основные сюжеты иконы «Распятие со страстями» заимствованы из Библии Пискатора, но иконописец как бы «вводит второй голос»: использует восьмигранную форму клейм, добавляя к композиции квадратики с орудиями Страстей, что позволяет «рассматривать события как в историческом, так и в символическом ключе». По-новому используется свет: изображения постепенно «светлеют» – от мрачного «Поцелуя Иуды» до ослепительного сияния «Вознесения». Еще один пример особой роли света – «Девять мучеников кизических, с избранными святыми», икона 1730 г. мастера Ивана Рожнова, сына домового иконописца Патриарха Адриана. Здесь можно видеть «резкое противопоставление двух миров: ослепительный свет отделяет мир горний от земного, и в этом прорыве парит Христос».
Скриншот онлайн-презентации В качестве примера адаптации копируемых гравюр искусствовед привела икону «Христос Спаситель мира»: русский мастер меняет типаж лика, применяет особую колористическую систему, свойственную барокко (контрастные красный и синий на темно-коричневом фоне). Этот сюжет все чаще заменяет традиционную иконографию «Господь Вседержитель».
Скриншот онлайн-презентации А мастер иконы «Обновление храма Воскресения Христова» (из храма Воскресения в Кадашах) использовал в качестве основы гравюру «Пир Валтасара» из Библии Пискатора, «переосмыслив все, кроме общей композиции». При этом в ликах обнаруживается «чистое живоподобие» Оружейной палаты – так в памятниках этого периода переплетается прежнее и новое.
Скриншот онлайн-презентации Второй раздел представляет расцвет барокко – этот стиль «укореняется» в русском церковном искусстве к 1740-м гг., считает куратор выставки. В иконе появляются барочные картуши, клейма разной формы, композиция формально усложняется, изображение становится очень динамичным, используется «резкий звучный противоречивый колорит, что привносит напряженность». Например, в редком сюжете «Богоматерь и избранные святые в молении за душу грешника» очевиден контраст между дольним миром (он прекрасен, мастер пишет воздушную перспективу, горы, цветы, травы) и горним, в котором в ярком свете изображены святые на облаках, а над ними – прорыв в самый верхний мир, где обитает сверкающий Саваоф.
Скриншот онлайн-презентации Для этого периода характерно множество маленьких владельческих икон с изображением весьма редких святых. Обратившись к биографиям некоторых заказчиков, Комашко обнаружила, что такое посвящение связано с какими-то значимыми событиями в их жизни. Так, соратник Петра I Василий Головин заказал образ св. Вукола Смирнского – в день его памяти он освободился после опалы. «Свв. Косма и Дамиан» появились в его домашней молельне по случаю рождения дочери в день их памяти. А сам он родился в день памяти свв. Иосифа Песнописца и Георгия Малеина, который совпал в тот год с «Воскрешением Лазаря» – все три сюжета оказались на одной иконе. В это время в дворянский быт из стен царского дворца приходит мерная икона (доска с изображением тезоименитого святого, соответствующая «мере» новорожденного). И в большинстве сюжетов бросаются в глаза «особенная световая драматургия», «бурление одежд-складок», затейливые нарядные рамки, аффектация, «высокие переживания, которые передаются через жестикуляцию и мимику», наличие пышного «театрального» занавеса как «перифраз на тему средневекового велума, но чаще сам по себе, иногда и как элемент парадного портрета». В это время корпус образцов русских иконописцев пополняется новыми гравюрами, изданными в Аугсбурге и популярными во всей Европе, возникают новые типы иконографии (так, Богоматерь «Неувядаемый цвет» – это вариант «Мадонны в цветочном венке», заказанной миланским епископом еще в начале XVII в., переосмысление гравюры Маттиаса Мериана).
Скриншот онлайн-презентации Третий раздел посвящен трудноуловимому переходу от барокко к рококо, для которого характерны «торжественность, светлая цветовая гамма, сложные переливчатые оттенки, живая кисть, мягкие контуры ликов, почти сфумато». У икон исчезают поля, появляется только тонкая опушь. Особое значение придается пейзажу: на фонах подробно изображается садово-парковые ансамбли, над которыми парят цветные легкие облака.
Скриншот онлайн-презентации Позы святых становятся легкими, почти «танцевальными», как у апостола Андрея на иконе из Кусково художника Кологривова (Комашко показала происхождение образа: скульптура в Соборе св. Петра в Риме – гравюра – икона). Рассказывая об этом периоде, искусствовед уделила особое внимание творчеству художника Михаила Фунтусова, который написал множество икон по заказу Шереметьевых. Она отметила, что четкой границы между барокко и рококо провести нельзя, но черты последнего стиля в конце XVIII в. еще были «в полных правах».
Скриншот онлайн-презентации Следующий раздел представляет живописную икону, которую писали маслом на доске, на меди, на холсте. Василий Василевский, Федот Колокольников, известный портретист Алексей Антропов и другие создавали церковные образы по законам европейской живописи.
Скриншот онлайн-презентации В конце XVIII века в европейском искусстве происходит переход к классицизму, и русская икона тоже «откликнулась» на этот процесс. Об этом рассказывает заключительный раздел выставки. Интересно, что в России художники ориентировались не на античность, как в Европе, а на «строгановскую классику» (русская школа иконописи, сложившаяся в конце XVI века – прим. ред.), отметила Комашко. По ее словам, для классицизма характерны статика, строгость, сухость цветовой игры. При этом именно в период классицизма складывается палехский иконописный стиль, тяготеющий «к истокам, к наследию». Другая сторона классицизма в церковном искусстве – это академическая живопись. А барокко тоже не исчезает совсем, но «уходит вглубь народных масс – в Холуй, к старообрядцам, даже за Урал». В целом можно сказать, что XVIII век «тем и хорош, что он такой многоплановый и разнообразный», заключила исследовательница. Юлия Зайцева
На главную | В раздел «Репортажи» | ||
|
|
© 2005–2019 «Благовест-инфо»
Адрес электронной почты редакции: info@blagovest-info.ru
Телефон редакции: +7 499 264 97 72
серия Эл № ФС 77-76510 от 09 августа 2019.
Учредитель: ИП Вербицкий И.М.
Главный редактор: Власов Дмитрий Владимирович
Сетевое издание «БЛАГОВЕСТ-ИНФО»

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)











